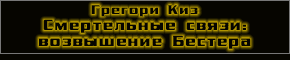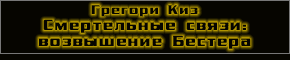Глава 7
Почти с ненавистью Эл наблюдал за подходящими через парадную площадку детьми. Их вел учитель Хьюа, но Бестер знал, что это не даст ему права ни на какое милосердие. Нет, он хорошо помнил эти экскурсии, когда сам был в классе Хьюа.
Если я проживу достаточно долго, — вдруг пришло ему на ум, — увижу ли я каждую ситуацию с каждой точки зрения? Я был ребенком, теперь я истукан. Стану ли я однажды учителем?
Мысли его раздражали. Но чем ему было еще заняться, кроме как думать и терпеть унижение?
Да, дети разглядывали его, но вели себя лишь озадаченно. Значит, это их первая экскурсия к „дежурному истукану”.
— Это настоящий человек, — заметила одна из детей. — Он вовсе не истукан. — Это была веснушчатая девчонка с грязными светлыми волосами. Ее именной ярлычок представлял ее как „Вики”.
— Э, ага, — согласился мальчик.
Вики уперла руки в бока.
— Чего это он не двигается? Чего это он тут стоит, будто Хватун? Чего это, учитель Хьюа?
— Спроси у него, — сказал учитель Хьюа.
Вики взглянула на Эла.
— Почему ты стоишь тут, м–р Истукан?
Эл облизал губы, желая, чтобы сейчас настал один из его пятиминутных перерывов, и он мог бы пойти попить воды.
— Меня зовут Альфред Бестер. Я стою здесь из–за гордыни. В своей гордыне я вообразил, что не нуждаюсь в опоре на мудрость старших. Я действовал, не считаясь с Корпусом. Я стою здесь как предупреждение против господства гордыни. Корпус — мать, Корпус — отец.
Он остановился. Это были единственные слова, которые ему было позволено говорить кому–либо.
— Ух ты, — сказала Вики. — Сколько ему тут еще стоять? Сколько вам тут еще стоять, м–р Альфред Бестер?
Ему не разрешалось отвечать на это, да он и не знал ответа. Начинался его третий день, и д–р Бей не проинформировал его, как долго это будет продолжаться.
— Эй! — сказала Вики. — Сколько вам тут еще вот так стоять?
Он остался бесстрастным. Так ему было лучше. Вики надула губы.
— Смотрите на него, и хорошенько затвердите этот урок, — посоветовал учитель Хьюа. — Теперь, если вам нечего больше сказать, идемте.
Они было тронулись. Эл только позволил себе глубоко вздохнуть и чуть–чуть расслабиться, как Вики обернулась с решительным видом.
— Почему ты должен стоять здесь как истукан? — спросила она.
Проклятье.
— Меня зовут Альфред Бестер. Я стою здесь из–за гордыни. В своей гордыне я вообразил, что не нуждаюсь в опоре на мудрость старших. Я действовал, не считаясь с Корпусом. Я стою здесь как предупреждение против господства гордыни. Корпус — мать, Корпус — отец.
Другие дети остановились, и некоторые выглядели растерянными. Но на лице Вики оставалось радостно–злорадное торжество.
— Дошло до вас? — сказала она. — Он должен отвечать на этот вопрос.
— Почему ты стоишь здесь? — спросил темноглазый мальчик, судя по ярлычку, Тали.
Эл повторил свою речь. Тут они все начали спрашивать его, один за другим, наперебой, так что ему пришлось частить. И они над ним смеялись, маленькие тупицы, и все спрашивали, и затевали дразнилки вокруг него.
У нормальных детей этого возраста краткое время внимания. Не тогда, однако, когда они получают шанс помучить — особенно старшего.
Но если это худшее, что он видел сегодня, то ему повезло.
В конце концов учитель Хьюа прервал веселье, хотя Эл подозревал, что тот не был обязан. Когда они исчезли из виду, он почувствовал легчайшее прикосновение старика. Держись, Альфред. Ты можешь пострадать за чрезмерную гордыню, но кое–кто из нас гордится тобой.
Это дало ему ощущение собственной высоты.
Недолгое приятное ощущение исчезло в обеденное время, когда студенты академии изощрялись над ним. Он думал, что за три дня привык к их „шпилькам”. Обряжать его во что–нибудь — их это, кажется, всякий раз забавляло. Сегодня это был костюм лепрекона — зеленая шапка, короткий керри–камзол, дудка, которую ему сунули в зубы. Они еще и ели прямо перед ним, сперва пронося еду под его носом, и затем передавая, какой у нее замечательный вкус. Он это не блокировал; он все время блокировал в первый день, и заплатил за это целой ночью и следующим днем бурной головной боли.
Они закончили свой обед, и одна из них — девушка лет примерно шестнадцати — встала и шагнула к нему.
— Взгляните, что мы имеем, друзья мои, — сказала она. Ее гласные были безупречно чисты, он не мог определить акцент. Она была красива, с волосами и кожей почти одинакового оттенка с коричными янтарными глазами. Он ее уже замечал. Она подошла ближе, разглядывая его.
— Прочти нам проповедь, м–р Первое Звено. Расскажи, какой ты великий, что ты сердце и душа Корпуса, и все, что мы, бедолаги поздние, делаем, — это просто догонялки.
Она подождала секунду–другую.
— Проповеди не будет, а? Но ты выглядишь, как живая проповедь: челюсть вперед, настоящий портрет проповедника. Корпус — мама, малыш, а ты разве не маменькин сынок? Беги к маме, малыш, и она расскажет тебе, как ты велик, силен и прекрасен, как она гордится тобой — после того как она поставит тебя здесь на несколько недель, — она внезапно вспрыгнула на постамент рядом с ним.
— Мое имя Альфред Бестер! — крикнула она. — Я здесь, наверху, потому что я такой мелкий, тощий, самодовольный мальчишка, потому что я думал, будто всем покажусь большим храбрым пси–копом! Я думал, они так впечатлятся, а они вот, глядите, что мне сделали! И теперь я вижу, что я и впрямь мелкий, тощий, самодовольный мальчишка!
Ее товарищи загудели и зааплодировали, и она сделала маленький реверанс.
Его тело гудело как звучащий камертон, так он был зол. Это был вкус гнева, какого он никогда прежде не чувствовал, дикого, фантастического. Он видел себя бьющим девушку по лицу, снова и снова, пока ее самодовольная улыбка не пропадет, пока она не признает, что ошибалась, пока она не поймет — он лучше нее. Что ей следует превозносить его.
Подошла другая группа. Он уже мог сказать, что они возбуждены ее выходкой, собираются произнести свои собственные громкие речи от его имени.
Врежь ей. Она заслужила. Пусть они убедятся.
Он создал послание интенсивной боли, адресовал его в спину отошедшей девушке и приготовился послать.
Не смей.
Его гнев застыл от прикосновения, но не замерз.
Не. Смей. Это был Бей, который сканировал его, который — вопреки своим заявлениям — ничего не смыслил в правосудии, но все — в пытках Альфреда Бестера.
Но он повременил с атакой. Он спрятал гнев в клетках своей плоти. Он сможет достаточно легко вытолкнуть его наружу позднее. Он всем покажет, включая Бея. Они все будут раскаиваться, что так с ним обошлись.
Так что он остался на месте и стерпел.
В восемь часов окончилось его истуканское дежурство, но не его наказание. Он возвратился — не в свою комнату, а в особую камеру, всю белую. Ему не разрешались ни книги, ни фильмы, ничего. Он не мог учиться и ему нечем было развлечься.
Не учиться было плохо. Экзамены были не за горами, а так было недолго и отстать. Он не мог сейчас позволить себе провалиться — когда до Высшей Академии рукой подать.
Он знал одно: обычно тем, кто нес наказание истуканом, позволялось в конце концов учиться, когда их срок истекал. Условия Бея были более чем необыкновенны. Хочет ли он провала Эла? Возможно.
Впервые он задумался о немыслимом — что он может в итоге стать коммерческим или судебным телепатом. В судах, где ему придется лизать башмаки пси–копам, приводящим туда преступников...
Эта мысль была непереносима. Он судорожно вскочил, злой, встревоженный. Он проделал серию ударов, выпадов, блоков и ката. Он бежал на месте, чтобы размять затекшие ноги. Он снова принялся бить и пинать и внезапно обнаружил себя дубасящим стену, пачкая ее красными пятнами с костяшек своих кулаков. Он попятился, тяжело дыша.
Он бросился на постель и закрыл глаза, пытаясь успокоить себя „чтением” Женевы.
Женева была его предметом изучения с тех пор, как началось наказание. Заинтригованный тем, что заметил в Париже, он посвящал большую часть времени своего истуканства — и здесь, в одиночестве, в этой комнате — дистанционному изучению фонового шума, который он всегда считал само собой разумеющимся, проникновению в нюансы.
Это были смутные, импрессионистские завитки. Временами они казались почти упорядоченными, но в тот момент, когда он полагал, что уловил систему, она исчезала. Не таковы ли облака, всегда изменчивые, легко и случайно принимающие формы, кажущиеся знакомыми?
Настоящая разница была между ночью и днем, так как ночью большинство людей спали, а дневной шум становился живым, менее связным. Это было — он терялся в поисках аналогии, которая объяснила бы это ему самому.
Она появилась неслышно и внезапно. Он увидел картину, уличную сценку, женщину в больших юбках. Его позиция по отношению к картине приближалась к полотну, летя волшебным образом. То, что было ясными изображениями, потеряло резкость, растворилось... Затем, по мере того как он оказывался ближе и ближе, полотно разложилось на множество мелких точек разных цветов.
Да. Похоже, — ответил он самому себе. — Ночью картина становится точками. Только каждая такая точка — тоже картина...
Образ — и мысленное прикосновение, принесшее его — исчезли. Он понял, однако, что это был Бей. Новая попытка помириться, новый трюк.
Вы не имеете права меня сканировать. Это против правил и незаконно.
Нет ответа. Могло и показаться.
На следующий день ему вымазали ореховым маслом волосы, привлекая голубей. Он пытался стоять смирно, весь обсиженный ими, а они гадили на него. Он обнаружил, что голубиные мозги слишком малы и глупы, чтобы по–настоящему испугаться пси–способностей. Они вспархивали, но все время возвращались.
Это запомнят навсегда. Когда он станет пси–копом — если такому посмешищу вообще позволят стать пси–копом — с двадцатилетним стажем, у него за спиной все еще будут указывать пальцем и ржать, вспоминая его всего в птицах, их помете и ореховом масле. Как он вообще сможет успешно работать? Бей разрушил его будущее.
В восемь он не пошел в свою камеру. Вместо этого он бросился бежать, упал, потому что его ноги от целого дня стояния одеревенели и подворачивались, но снова поднялся. Как раз начинался дождь, холодная октябрьская морось, затянувшая горы, быстро перешла в ливень. Он чувствовал, будто на его коже она становилась паром, таким горячечным казался его гнев.
Он знал, где находится кабинет Бея. Он нашел его и забарабанил в дверь. Его ярость сделала его великаном, но он начал терять в росте, когда дверь в конце концов отворилась.
Сандовал Бей кротко посмотрел на него.
— М–р Бестер, полагаю, вам теперь следует быть в вашей комнате. Охрана станет недоумевать, где вы есть.
— Зачем вы так со мной поступаете? Зачем? Директор не поступил бы хуже.
Глаза Бея сузились, и он вдруг хохотнул.
— М–р Бестер, — сказал он, — в некоторых отношениях вы прискорбно наивны.
— Сэр, как мне теперь — я имею в виду, если меня совсем не будут уважать, как я смогу...
— Войдите, м–р Бестер, я не хочу, чтобы вас заметили стоящим в холле.
Эл перешагнул порог, и Бей захлопнул за ним дверь. В одно мгновение все предстало в ином свете. Он вдруг увидел себя, мокрого, испачканного пометом, стоящим в кабинете одного из самых могущественных людей в Пси–Корпусе.
— Итак, м–р Бестер. Вы обманули доверие Корпуса. Вы подвергнуты, если рассудить здраво, мягкому наказанию. На что вы жалуетесь?
— Я жалуюсь на то... на то... почему мое наказание должно быть таким... таким...
— Публичным?
Эл вздрогнул и замер на мгновение.
— Сэр, я думал, вы мне друг.
Странное выражение прошло по лицу Бея.
— Эл, — тихо сказал он, — я и есть твой друг. Я пытаюсь спасти твою жизнь.
— Сэр?
— М–р Бестер, я произвел много сканирований мертвых и умиравших. Более того, в свое время я сталкивался со сценой смерти много раз, наступая костлявой на пятки, что мог прямо–таки чуять след умирающей личности, эхо ее последних мыслей. Когда я приходил к телу кого–то, кто перерезал себе вены, глотал горстями таблетки, повесился — когда я посещал самоубийц, м–р Бестер, знаете, какую мысль я находил чаще всего, висящую в воздухе, зримо сияющую передо мной?
— Нет, сэр.
— Теперь–то они увидят. Теперь–то они увидят, — он помедлил и остановил свой лучистый взгляд на Эле. — Знакомо звучит, м–р Бестер? Наверняка.
— Сэр, я никогда не помышлял...
— Суицид — это форма сознания, м–р Бестер, а не акт. Это обманчивое, презренное состояние.
Эла начало знобить. Он задрожал. Он осознал, что его погоня за Бразг и Нильссоном могла выглядеть как попытка...
— Сэр, я понимаю, что допустил ошибку, но...
— Речь идет не об одной ошибке, м–р Бестер. Речь идет о вашей жизни. Я наблюдал за вами.
— Сэр?
— Вы экстраординарный студент. Даже слишком, на самом деле. В семи из последних десяти тренировочных заданий вы вышли за пределы безопасного.
— Я стремлюсь к мастерству, сэр.
— Зачем?
— Затем, что Корпуса достойны только лучшие.
— Корпуса достойны кадеты, которые живут в плату за свое обучение, которые не заканчивают мертвыми или хнычущими идиотами в больничной палате. Туда–то вы и направились, м–р Бестер. У вас нет друзей. Вы бегаете, практикуетесь в боевых искусствах, вы бесконтрольно тренируетесь в ваше „свободное” время. Вечный одиночка. И вот так вы прожили, насколько я могу сказать, всю вашу короткую жизнь.
— Я вообще–то не очень хорошо уживаюсь с другими, сэр.
— Вот именно. В этом–то и проблема. М–р Бестер, у пси–копа труднейшая работа на свете. Он должен охотиться на своих собственных соплеменников, а они ненавидят его за это, потому что не понимают. Нормалы, которые извлекают выгоду из его работы, не понимают его тоже, конечно — в лучшем случае допускают его, представляют его как некий вид вонючего животного, годного лишь на то, чтобы избавлять их от более зловонных. В худшем случае, они боятся и сторонятся его.
М–р Бестер, никто не силен достаточно, чтобы справиться с этим в одиночку, и особенно не тот, кто помышляет о суициде. „Я им покажу!” Кому покажете, м–р Бестер? Единственные люди, кто может любить вас, поддерживать на пути через все это, удержать вас в здравом уме, позволить вам почувствовать, что вы чего–то достигли, единственные — ваши братья и сестры по Корпусу. Вы нуждаетесь в них, м–р Бестер, еще сильнее, чем в способности блокировать и сканировать. Каковы были ваши ощущения на следствии, когда за спиной вдруг оказался я и поддержал вас? Когда члены суда тайно подбодрили вас?
— Это было хорошее чувство, сэр. — Но не такое хорошее, как раздолбать полицейского в поезде совершенно самостоятельно, добавил он с молчаливым вызовом.
— Это придало вам смелости, заставило почувствовать, что вы можете снести все?
— Кажется, так, сэр.
— Вам кажется. Сядьте, м–р Бестер, — Бей указал на обитое кожей кресло. — Сядьте. Сырость ему не повредит. Вы любите Корпус, но этого недостаточно. Вам следует любить людей в Корпусе, а им — любить вас. Вам следует любить Беглецов, за которыми охотитесь. Вам следует любить мир, в котором вы живете, м–р Бестер. Вам следует расширить свои увлечения. Вы должны открыть искусство, музыку и поэзию, которые волнуют душу так же, как долг. Служба сама по себе утомительнее, чем вы думаете, м–р Бестер. Это может вас подвести. Это почти подвело вас перед лицом суда, — он помедлил. — Вы понимаете? Вы понимаете что–нибудь из этого?
— Я не уверен, сэр.
— Вы с претензиями, м–р Бестер. Хотите показать, что вы лучший, в смутной надежде, что кому–нибудь понравитесь — или кто–то пожалеет, что не уделял вам больше внимания раньше. Это логика, опровергающая сама себя, гарантирующая, что желамое постоянно будет ускользать от вас. Вы знаете, чего в действительности хотите, м–р Бестер?
— Я хочу стать хорошим пси–копом.
Пощечина последовала так быстро, будто рука Бея прямо–таки материализовалась на лице Эла. Удар потряс его до глубины души.
— Это за ложь, — отрезал Бей. Его лицо сильно потемнело. — Вы смеете судить, как становятся хорошим пси–копом? Да? Вы не знаете ничего. Пси–коп, погибший из–за вас, был хороший пси–коп. Я тренировал его. У него были друзья, люди, которые его любили. Он оплакан. Кто–нибудь станет оплакивать вас, м–р Бестер?
— Не думаю, сэр, — сказал он со вспыхнувшим лицом. — Мне вообще–то... — он осекся.
— Вы собирались сказать, что вам наплевать, не так ли? Но ведь это неправда?
— Сэр, не... — у него перехватило дыхание. Последние несколько дней вдруг, казалось, навалились на него грудой камней, но и поверх них громоздилась целая гора.
— Как прогулялся с Первым Звеном, Эл?
— Я думал — они взяли меня с собой только потому,... — да что с ним такое?
— Потому что я велел им, на самом деле. Но ты ведь надеялся? Надеялся оказаться своим?
— Я никогда не был своим, сэр. Я всегда принадлежал только Корпусу. Я не понимаю, за что вы на меня так сердитесь. Я не понимаю, почему директор говорил все те вещи, назвал меня предателем, потому что я люблю Корпус. Я не понимаю ВООБЩЕ НИЧЕГО! — он уже кричал, и горячие, соленые слезы хлынули по его лицу. Казалось, будто кости у него в груди таяли и струились из глаз.
Бей посмотрел на него, потом вздохнул. Он положил руку на плечо Эла и сжал.
Элу этого не хотелось. Чувство было глупое и неловкое и трусливое, но этот простой человеческий жест взломал запруды в его глазах, и, хотя он все еще не понимал, почему, он расплакался безудержно, скрипя зубами. Он не припоминал, кто еще прикасался к нему с добротой и заботой за долгое, долгое время. Это ужасно больно. Он не может довериться этому, разве Бей не понимает? Доверять было глупо, глупее, чем нуждаться. Бей просто был иной разновидностью Смехуна, тоньше. Его лицо было его маской.
Но его слезы этого не знали, и он плакал, казалось, долго–долго. Старший не двигался, просто держа руку на его плече, не притягивая его ближе и не отталкивая прочь.
— Не беспокойся, — сказал ему Бей. — Не беспокойся. Все будет хорошо. Теперь иди в свою комнату. Я представлю все так, будто вызывал тебя, чтобы сделать замечание. Иди.
Вернувшись в комнату, Эл больше не знал, что чувствует. Ему казалось, будто сквозь него промчался водоворот, несший совсем незнакомые воды.
Он улегся на спину и снова попытался созерцать Женеву.
И пришло прикосновение, легкое, словно перышко. Он знал, что в одной из стен, должно быть, имеется замаскированное окно. До сих пор это заставляло его чувствовать себя рыбой в аквариуме, но теперь это вдруг стало странно приятным.
Ты интересовался насчет иной точки зрения, — сказал голос.
Д–р Бей?
Да.
Сэр, что...
Когда приходили дети, ты интересовался, увидишь ли однажды ту же ситуацию со всех точек зрения.
Да, сэр.
Был повод для таких размышлений?
Да, сэр.
Какой?
Я не уверен, сэр. Я все еще думаю об этом, — на самом деле он не думал. Мысль пришла и ушла. Бей, вероятно, понял это, и он вдруг пожалел, что соврал.
Хорошо. Я хотел бы, чтобы ты кое–что посмотрел.
Внезапно часть стены ожила. Она замерцала бессмысленными тенями серого и черного, с пятнами белых искр, проносящихся как кометы. Затем появились изображения, такие же черно–белые, как пиротехника вначале. Полуразрушенное здание — древняя Япония, может быть, и люди, разговаривающие. Появилось название, на английском и японском.
РАСЕМОН
Утомленно моргая, Эл сел на своей узкой койке и принялся смотреть.
Он думал о фильме весь следующий день. Исходные данные были на самом деле очень прости: изнасилование и убийство, увиденные с четырех точек зрения — бандита, женщины, ее мужа и дровосека. Все они сходились на нескольких фактах — но в конечном счете все истории были очень различны, каждая менялась для представления рассказчика в наилучшем свете. Как оказалось, даже жертва убийства — муж — не был надежным свидетелем, когда его дух был вызван из могилы. Только дровосек — который казался только наблюдателем — имел нечто близкое к объективному взгляду.
И все же персонажи фильма сомневались даже в его версии истории, оставляя Эла при печальном открытии, что он никогда не сможет узнать наверняка правду о том, что же произошло.
Будь там телепат, чтобы просканировать каждого, помогло бы это? Может, и нет, потому что персонажи, казалось, убедили себя, что все реально произошло так, как они сказали. В лучшем случае, расследовать дело оказалось бы очень трудно. И телепат мог оказаться, как дровосек, якобы объективным наблюдателем, которым не был. Не мог быть.
Очевидно, на некоем уровне реальности, существовал единственный порядок действительно произошедших событий.
Но наблюдатель не мог быть объективным.
Он определенно не мог, стоящий с глупым видом, униженный и злой. Он мог видеть историю лишь со своей собственной точки зрения, точки зрения жертвы.
В „Расемоне” самой сомнительной оказалась в итоге недоказуемая история жертвы.
Итак, поскольку ничего лучше сделать он не мог, а смотреть глазами жертвы сил тоже больше не было, он пытался вообразить себя с точки зрения своих мучителей. По сути дела, это было легко. Он нашел, что может понять детей — в конце концов, он однажды стоял на их месте — и он обнаружил с некоторым изумлением, что от этого большая часть его гнева на них улетучивается.
Старшие студенты — другое дело. На их месте он не бывал. Когда он стал старше, он просто игнорировал „истуканов” на плацу. Они ему были неинтересны. Тем труднее было ему вообразить, какой толк студенту академии, у которого есть занятия и получше, упражняться в насмешках над беспомощным соучеником.
Конечно, ему не приходилось пользоваться одним лишь воображением. Он по крупицам собирал их поверхностные мысли, мысли их друзей. Маленькие картинки Расемона просеивались и по кусочкам составляли биографии.
Поначалу было трудно, потому что он сопротивлялся пониманию — он, скорее, презирал бы их — но, познав раз несомненно простую истину, он быстро проникся ее духом.
Фатима Кристобан, например, та, что насмехалась над ним так жестоко третьего дня, была „поздней” и не проявляла свое пси до тринадцати лет. Выросши как нормал, она скучала по миру обычных людей, ей было неуютно в академии и глубоко противны все, кто рос в звеньях, особенно в Первом.
Однажды Бретт и другие проходили мимо и помахали ему. Фатима была тут — как раз мазала его губной помадой — и заметила их. Ее сжатые губы идеально соответствовали внезапному всплеску гнева в ее мыслях.
Нет, не только его ненавидела Фатима.
Джеффер Повиллес. Он хотел бы иметь мужество сделать то, что сделал Эл. С другой стороны, он знал, что у него кишка тонка, и если он не может, то не имеет права на существование тот, кому удалось.
Джири Белден. Ему нравилась беспомощность. Это уменьшало его собственное ощущение беспомощности.
Простая истина заключалась в том, что в дураках оставались они. Все, что они проделывали, каждое оскорбление, было просто новой деталью в мозаике Эла, новым инструментом, которым он мог их анализировать.
Однажды проанализированное, ничто не могло оставаться столь же угрожающим. Они стали для него жертвами; но не от его руки, а от их же собственных. Он обладал силой познать их, и это, определенно, была огромнейшая сила.
Вечером уроки Бея продолжились. Это не были уроки, какие он получал раньше. Бей преподносил их в виде фильма, или притчи, или поэмы, или картины. Многозначительность выбора часто ускользала от Эла на день или больше. Но в итоге каждый кусочек был как кривое зеркало, отражающее какую–то его собственную мысль, мысль, влекущую выводы, к которым он бы никогда не пришел самостоятельно и с которыми иногда не был согласен. Он спорил с Джойсом, Ницше, Хайнлайном, Вольтером, де Картом, Блейком. Бей определенно питал любовь к великим мыслителям прошлого. Он и с Беем спорил тоже.
Это был причудливый способ учиться. Он наполнял его странным волнением. Он также начал понимать, как применить это. Кое–какие вещи, которые он уже изучил, стали приобретать определенную осмысленность.
На десятый день своего наказания он увидел приближающуюся к нему девушку, ее темные, коротко стриженые волосы, подпрыгивающие в такт ее стремительным шагам. С виду она, должно быть, была его лет. Она была красивой, но не совсем в общепринятом роде — у нее был большой рот, ее глаза чернели при ярком солнце. Он стал прикидывать ее биографию, и тут понял, что на самом деле она вовсе не направлялась к нему, а лишь шла своей дорогой.
А это было плохо. Он собирался разобраться в ней. Может быть — он усилил контроль, касаясь ее поверхностных мыслей, по–настоящему не сканируя. Она казалась глубоко задумавшейся, и, вероятно, не заметит очень легкого...
Она встала, скорее резко, и ее взгляд стрельнул в него. Блоки все закрыли. Она задумчиво покачала головой.
Ну, ее внимание он во всяком случае привлек. Он ощутил, что краснеет от смущения и посетовал, что не может контролировать свое тело так, как контролирует сознание. Она подошла к нему почти прогуливаясь.
Теперь она что–то затевала, или хотела, чтобы он так подумал. Она была стройная, с длинными руками цвета меди. Ее взгляд был настойчиво прикован к нему. Он мимолетно подумал о кобре, подползающей к добыче. Ее губы слегка дрогнули. Он попытался поставить себя на ее место, увидеть сцену ее глазами, но не преуспел.
Она вступила к нему на постамент, наклонила голову в одну сторону, в другую, и тут он заметил, что они одного роста. Теперь он мог почувствовать ее запах, с ароматом какого–то цветка.
Она поцеловала его в губы. Дважды. Во второй раз она взяла его нижнюю губу в свои и растянула ее, так что чувственный контакт продлился. Его колени тут же подогнулись. Ее глаза опасно сверкнули, и затем она резко засмеялась. Она пошла прочь, все еще смеясь. Ему потребовалась вся до последней капли сила воли, чтобы не обернуться и не последовать за ней.
Биография? Его сознание было пусто. Об этой девушке он не знал ни черта, кроме — в ней был огонь, горение, едва прикрытое кожей.
Знать бы больше.
Но она не показалась на другой день, и в следующие четыре. Но показался Бей, на четырнадцатый день. Он перешел лужайку, заговорщически улыбнулся и сказал:
— Ваше время вышло, м–р Бестер. Можете оживать.
— Спасибо, сэр, — он неловко помялся. — Сэр?
— Да?
— Спасибо за все.
— Всегда пожалуйста, м–р Бестер. В добрый час, — он заложил руки за спину и направился прочь.
— Сэр? — снова сказал Эл.
— Да, м–р Бестер?
— Я бы хотел узнать — могли бы мы — э... иногда поговорить? Друг с другом?
— Конечно, м–р Бестер. Почему бы нам не встретиться в моем офисе завтра, часов в шесть?
— Спасибо, сэр.
— Идите, м–р Бестер. Вам следует нагнать кое–что. Четырнадцать дней определенно задержали вас, а до экзаменов всего месяц.
— Я буду стараться, сэр.
— Уверен, что так. До завтра.
| Последнее обновление: 16 октября 2002 года |
© 1999 Del Rey
Перевод © 2001–2002 Елена Трефилова.
Оформление © 2002 Beyond Babylon 5,
публикуется с разрешения переводчика. |